“
Еще по школьным урокам истории нам всем представляется, что выживание обычного человека, оказавшегося в условиях немецкой оккупации, было весьма сложным занятием. Но порой, не ощутив это, так сказать, на собственном опыте, с высоты минувших лет нескольких послевоенных поколений, мы теряем всю остроту прежних ощущений и переживаний, —
Специально для «Псковской правды» он подготовил материал, в котором пробует вернуть читателя на 80 лет назад и помочь ему представить, в каких бытовых обстоятельствах выживали наши отцы, деды, прадеды.
Псков, Советская площадь, 1941 г.
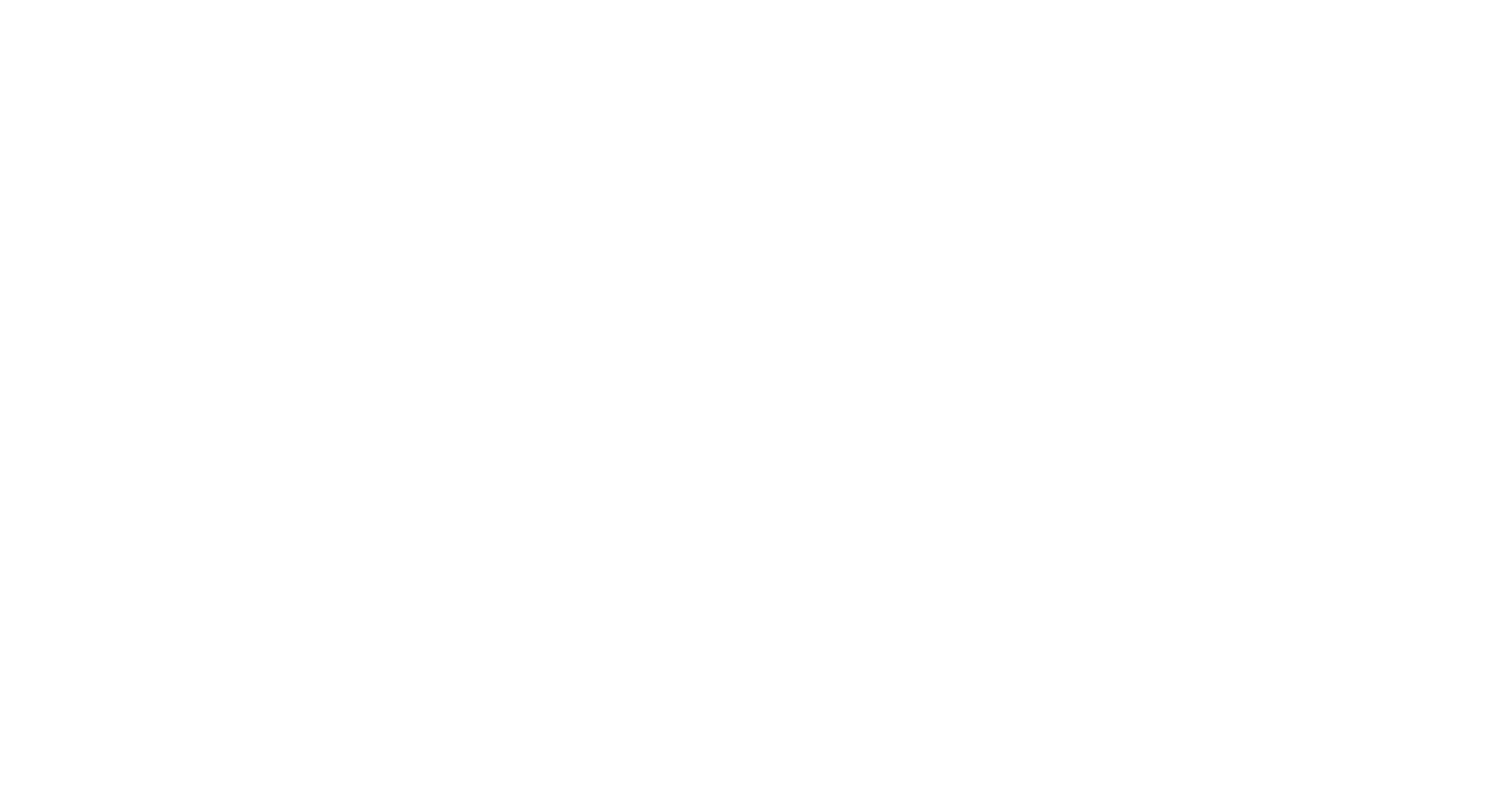
Псков, Советская площадь, 1941 г.

После установления на Псковщине немецкой власти в июле 1941 года, здесь начинает вводится суровый нацистский режим, который был ориентирован на полный контроль и подчинение любого находящегося под властью немцев. Для скорейшего установления авторитета немецкой власти на оккупированных территориях использовались пособники из числа местного населения, готовые помочь с контролем населения. Как впоследствии на допросе после войны это объяснил бывший бургомистр Пскова Василий Максимович Черепенькин: «… на все эти работы я шел только из любви к русскому народу. Занимая все эти должности, я был только русским для русских».
Как и в других областях оккупированного СССР, на территории Псковской области был введен институт старост и бургомистров. Использование так называемой «русской администрации» позволяло немцам проводить на захваченных территориях непопулярные и жесткие решения по эксплуатации населения. Ниже рассмотрим, в каких условиях и при каких порядках приходилось выживать псковичам в годы немецкой оккупации.
Наиболее достоверным источником здесь послужат документы архива Псковской области, где сохранились распоряжения бургомистра Черепенькина с обозначением размера налогов, платы за аренду помещений и прочие хозяйственные сборы с населения. Не менее интересным будет изучение архивных дел с названием «Распоряжения о наложении административных наказаний». Или данные Социального департамента, которые рассказывают о том, как заботились о местном населении в медицинском плане.

Для обозначения своего присутствия оккупационная власть начала приспосабливать окружающую среду под свои интересы и нужды. Так, осенью 1941 года в городе провели массовое переименование улиц. Вместе с переименованием город избавлялся и от признаков ушедшей советской власти. Все названия улиц имевших отношение к руководству прежнего строя немедленно искоренялись. Так, например, улица Ленина стала Plauner strasse, улица Свердлова – Berliner strasse, улица Калинина – Promenaden. Обозначавшие советскую действительность явления тоже меняли, так, например, улица Красных партизан стала Regensbürger strasse, улица Крестьянская – Diesel strasse и так далее.
При этом улицам не возвращали старые дореволюционные названия, что было бы логичнее, но давали новые. Показателен случай с двумя улицами – Некрасова и Октябрьской. После занятия немцами города первая получила неофициальное название улица Германа Геринга, а вторая – Адольфа Гитлера. Однако немецкая власть не оценила душевные порывы местных почитателей нацизма и вскоре названия сменила – Г. Геринга стала Turm strasse (Башенная), а вторая – Hauptstrasse (Главная). Впоследствии ни одной улицы в честь деятелей нацистской Германии в Пскове не было обозначено, в отличие от, например, Риги.
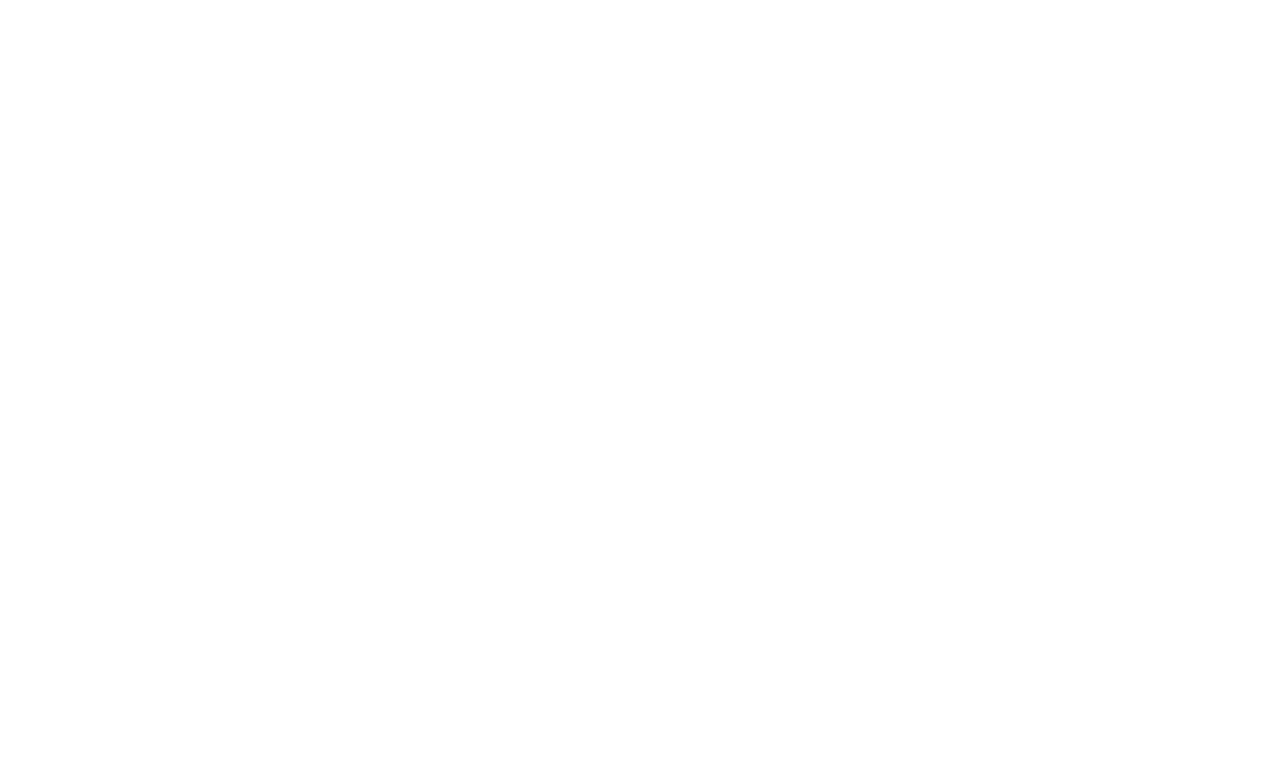
Немецкие солдаты в псковском музее, 1942 г. Фото Bundesarhiv
Изменения коснулись и общественной жизни. В музей в Поганкиных палатах местные посетители могли зайти только в первые три дня оккупации. Позднее его имели право посещать только немецкие солдаты. По свидетельствам очевидцев, в музее на разных предметах висели таблички «Продается». В первое время оккупации в Пскове для немецких солдат и их пособников работали два кинотеатра: один находился на Haupstrasse (Октябрьский просп.), другой на Рыночной площади. Позднее, в сентябре 1942 года, появился кинотеатр для летчиков Люфтваффе. Еженедельно репертуар театра и кинотеатров в 1942 году утверждал комендант города генерал-майор Хофманн. Так, например, в начале февраля показывали картины «Хозяин дома» и «Шесть дней отпуска», в мае – «Другая я». Сеансы проходили в 17:00 и 20:00.
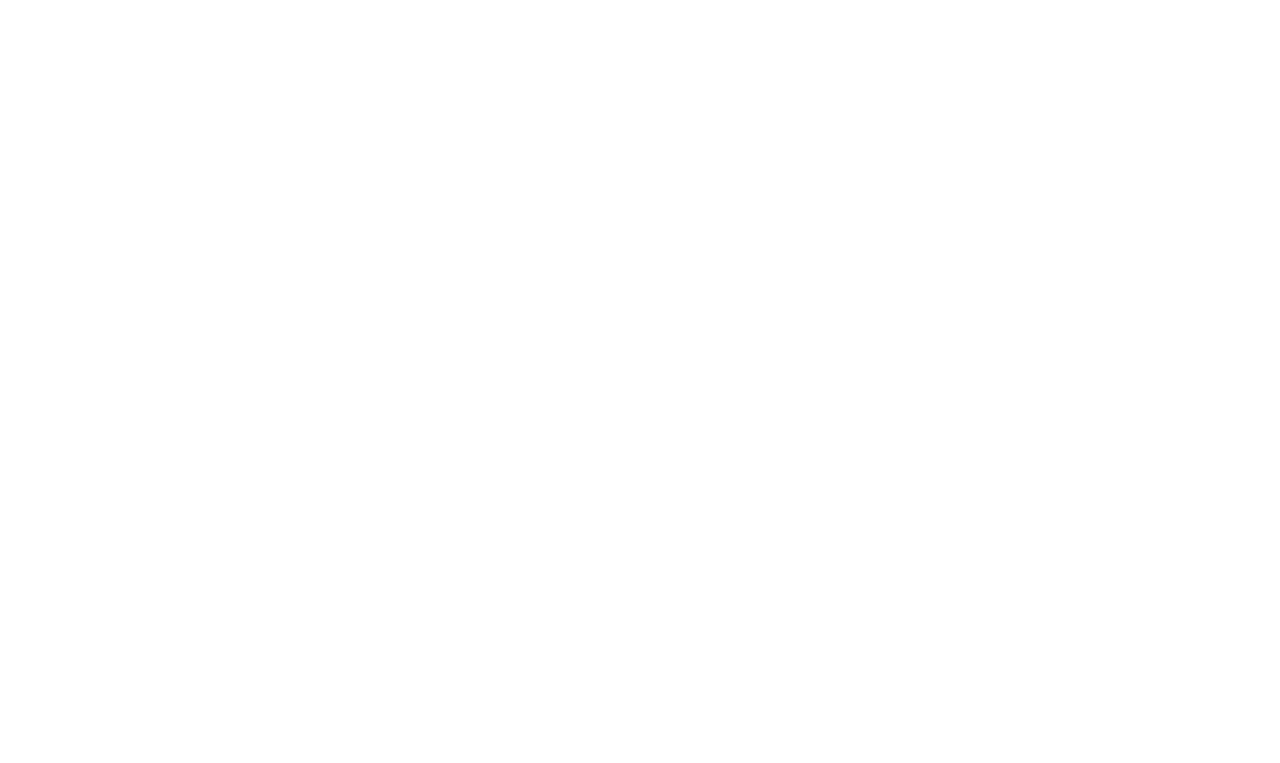
Марки Почты СССР с немецким штампом «Pleskau 60 kop.», 1941 г.
Театр им. Пушкина в 1942 году стал Солдатским театром, куда допускались, соответственно, немецкие солдаты. Отдельно для псковичей 21 декабря 1942 года в Пскове в присутствии представителей германского командования и хозяйственных организаций состоялось открытие небольшого нового театра и кинотеатра для псковичей. «Я надеюсь, что гражданское население из всего этого может убедиться в том, что германское командование идет навстречу вашим культурным потребностям», – сказал комендант на открытии. На площади Жертв Революции был перестроен монумент: на нем укрепили свастику и доску с надписью «В память освобождения г. Пскова от большевизма германскими войсками 9 июля 1941 г.».
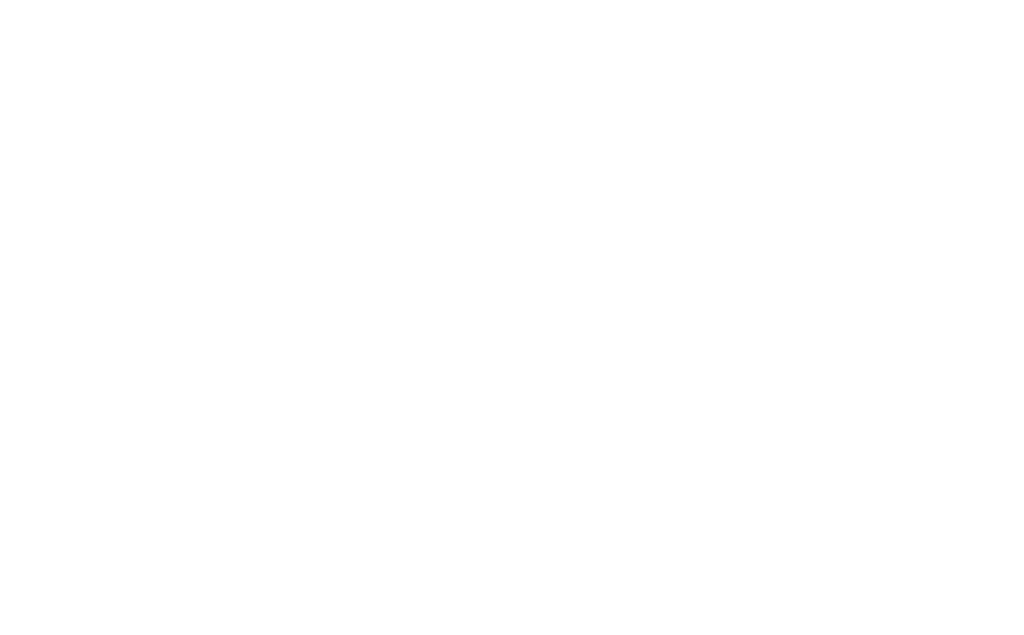
Новый памятник на Площади Жертв Революции в Пскове

Одно из первых изменений общественной жизни, касавшегося практически каждого жителя, – с наступлением оккупации повсеместно вводилась принудительная трудовая мобилизация работоспособного населения – с 14 до 65 лет. Всё пригодное к труду население обязано было в кратчайшие сроки зарегистрироваться в соответствующих управах. В Пскове таким местом было Городское Управление труда, которое и проводило трудовую мобилизацию. Находилось оно по адресу улица Ленина, 11.
Заведовал распределением трудовых ресурсов осенью 1941 года оберлейтенант Беккер. Согласно архивным документам, местное население всячески игнорировало подобные призывы. Доказательством этого факта служит объявление городского бургомистра Черепенькина, который в январе 1942 года выпустил объявление, где указал на «злостное уклонение отдельных граждан города от несения трудовой повинности … в настоящее время принимает совершенно недопустимый характер и становятся явлением обычного порядка, а применяемые до сего времени меры борьбы с этим явно не достигают своей цели и не дают необходимых положительных результатов» и в связи с этим будут приняты меры вплоть до расстрела.
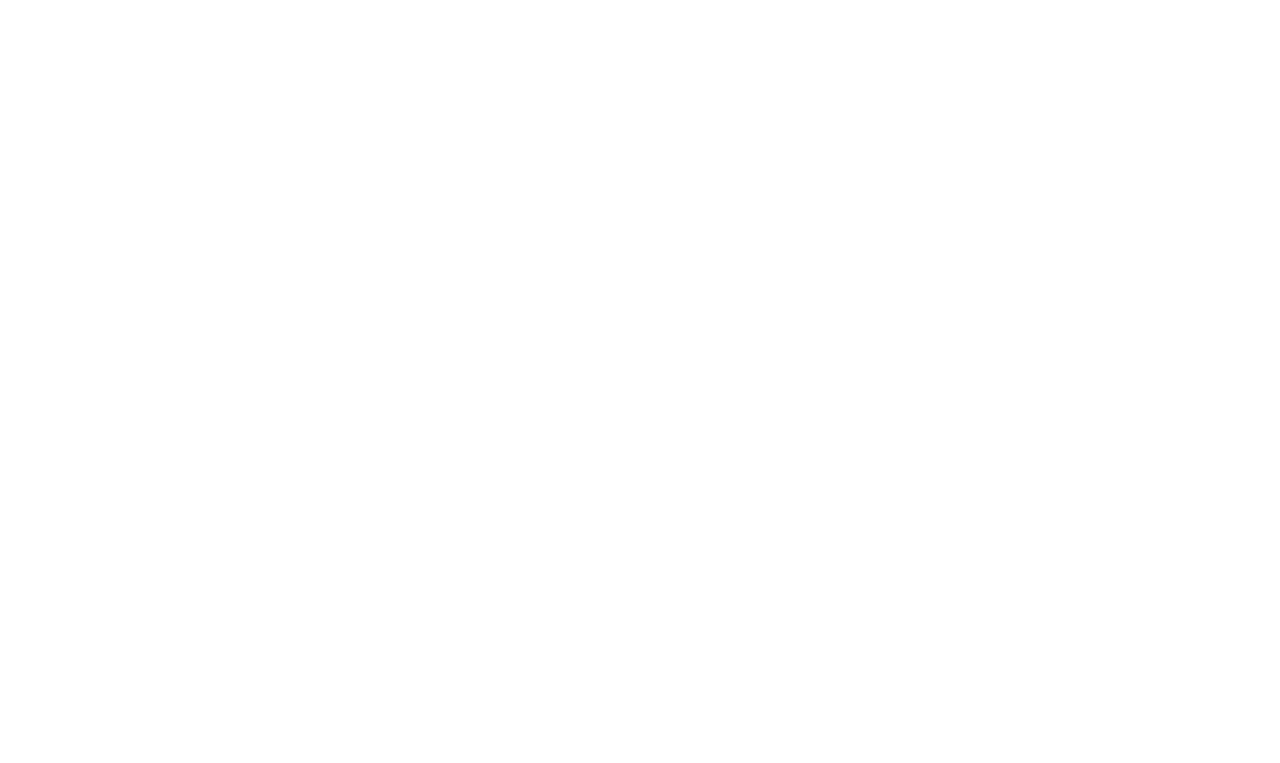
Немецкая «Рабочая книжка»
Немногим ранее, начальник хозяйственного управления Пскова оберлейтенант Беккер 21 ноября 1941 года издал приказ: «Сим в последний раз предлагается населению Пскова явиться с нужными документами для получения рабочего паспорта в помещение управления труда по Плаунер улице, № 11 (ул. Ленина). Кто после 1.12.41 года будет застигнут военным патрулем без рабочего паспорта, будет подвергнут уже объявленному наказанию».
В целях назидания нерадивому населению в газете приводились примеры возмездия от уклонения от работ: «За отказ от работы на дорогах уездный комендант наказал принудительными работами в лагерях сроком до 30 суток и денежным штрафом от 500 до 800 рублей семерых жителей Корловской волости, Псковского района».
Приглашение Богдановой Прасковье немедленно явиться в Управление Труда, 6 января 1942 г.
“
Псковский житель хорошо знает, что бы ему пришлось пережить, будь он сейчас по ту сторону фронта. По своему горькому опыту, он живо представляет себе страдания людей, оставшихся под властью большевиков, сравнивает их положение со своим и приходит к одному определенному выводу, только война, как бы она тяжела ни была, может освободить русский народ от большевизма. Этим сознанием, между прочим, можно объяснить и то, что проведенная мобилизация по трудовой повинности прошла так, как она никогда не проходила и не могла пройти в советских условиях: на редкость организованно и дружно. Случаи уклонения, симуляции были исключительно редки. Много значило и то, что приемные комиссии проявляли строго индивидуальный подход, учитывая не только состояние здоровья, но и семейное положение и наличие хозяйства: огорода, скота и т. п. Сейчас призванные уже распределены по местам. Большинство женщин занято на работах не более 4-5 часов в день, —
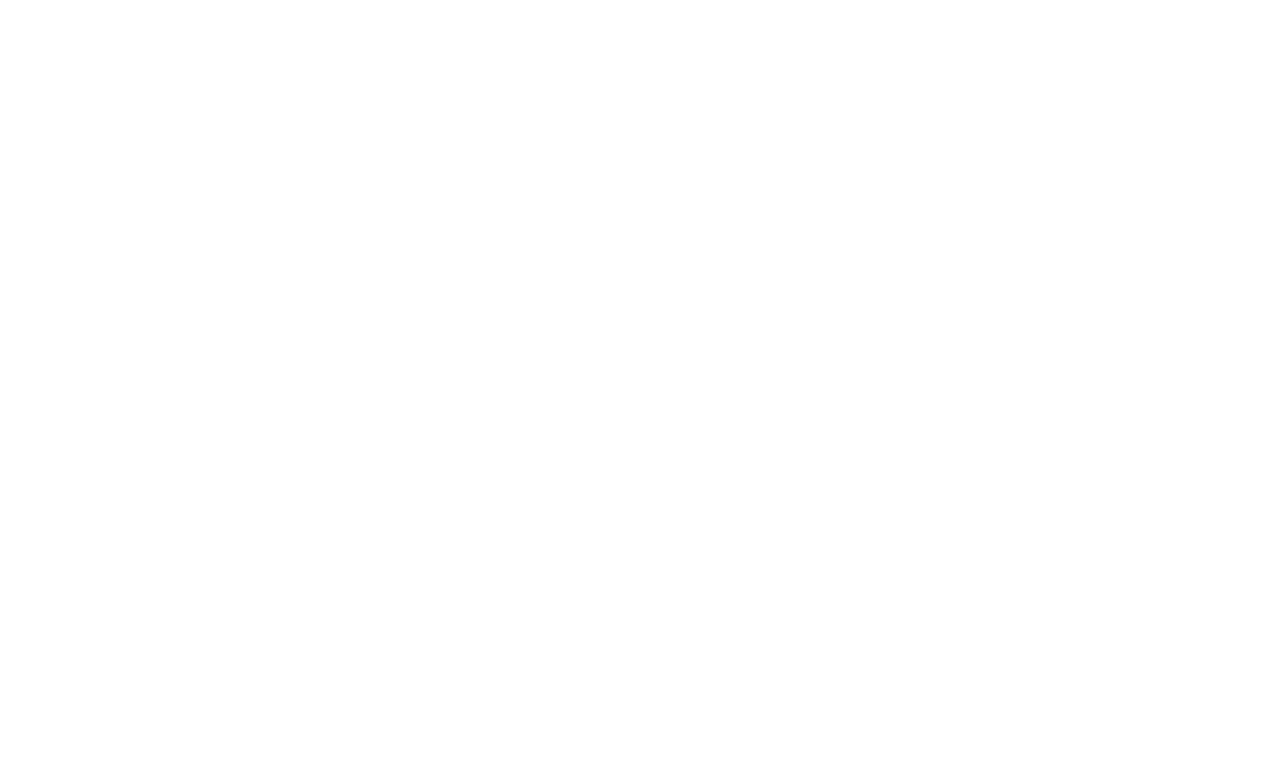
Газета «За Родину».
Несмотря на подобные лестные отзывы нацистской пропаганды о трудовой повинности, трудоспособный житель это видел по-своему. В действительности, по словам участников событий, трудовая мобилизация происходила по текущей необходимости. Спустя две-три недели после вхождения немецких войск в город, немцы собрали мужчин от 16 до 55 лет и отправили их в Печоры в лагерь (находился в бывшем Южном лагере эстонской армии, в районе деревень Voropi и Raaptsova), где их разместили под открытым небом, жили они там два месяца, кормили один раз в сутки баландой, заставляли спать без верхней одежды. Когда они вернулись в Псков, половина из них стали инвалидами, а часть вскоре скончалась.
Свидетельница Громова Н. Е., ее отец побывал в этом лагере, рассказала, что его привезли в Печоры, отправили в лес и поместили за колючую проволоку. Строений там не было, жили под открытым небом, воды и еды не давали. В 20-х числах августа были расстреляны 14 человек. Примерно так выглядела любая немецкая трудовая повинность и позже.
В Печорском лагере в 1941 г.
После проведения варварской «трудовой» мобилизации в августе 1941 года в разные инстанции потекли обращения от родных с просьбой освободить из лагеря сына/мужа/отца. Наиболее частой причиной к освобождению указывалось наличие инвалидности у узника. Практически все заявления содержали набор однотипных фраз, где указывалось на то, что узник не состоял в партии, не был коммунистом, никаких враждебных действий не принимал по отношению к немецкой власти, не связан с партизанами и прочее. Почти все прошения описывали бедственное положение оставшихся домочадцев с больными родственниками или малолетними детьми. Все подобные бумаги подписывали свидетели, которые ручались за просителя и подтверждали точность приведенной информации.
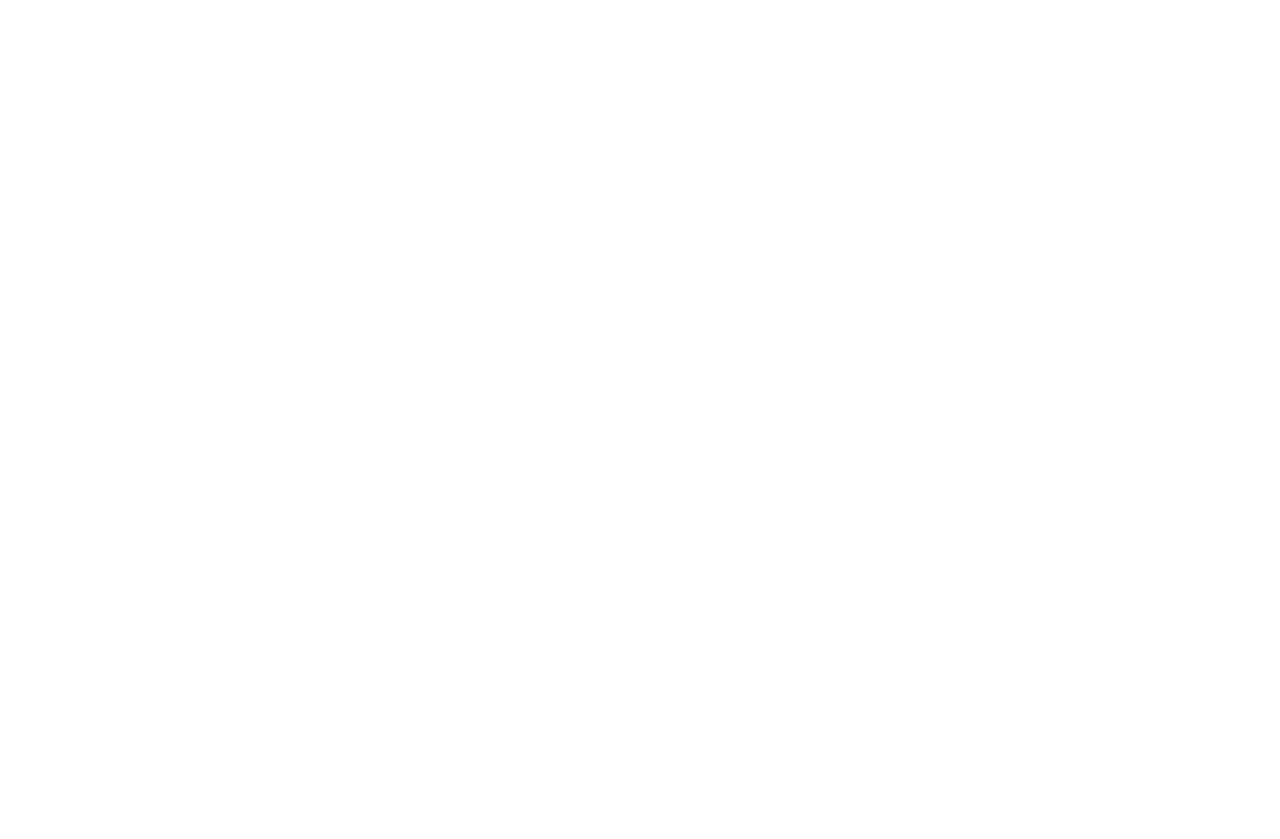
Фрагмент заявления Шамардиной А. И. коменданту Пскова в сентябре 1941 г.

Основной обязанностью наличествующего населения города и области была работа на немецкую экономику. Самым действенным рычагом управления в этом деле служили поборы, штрафы и наказания.
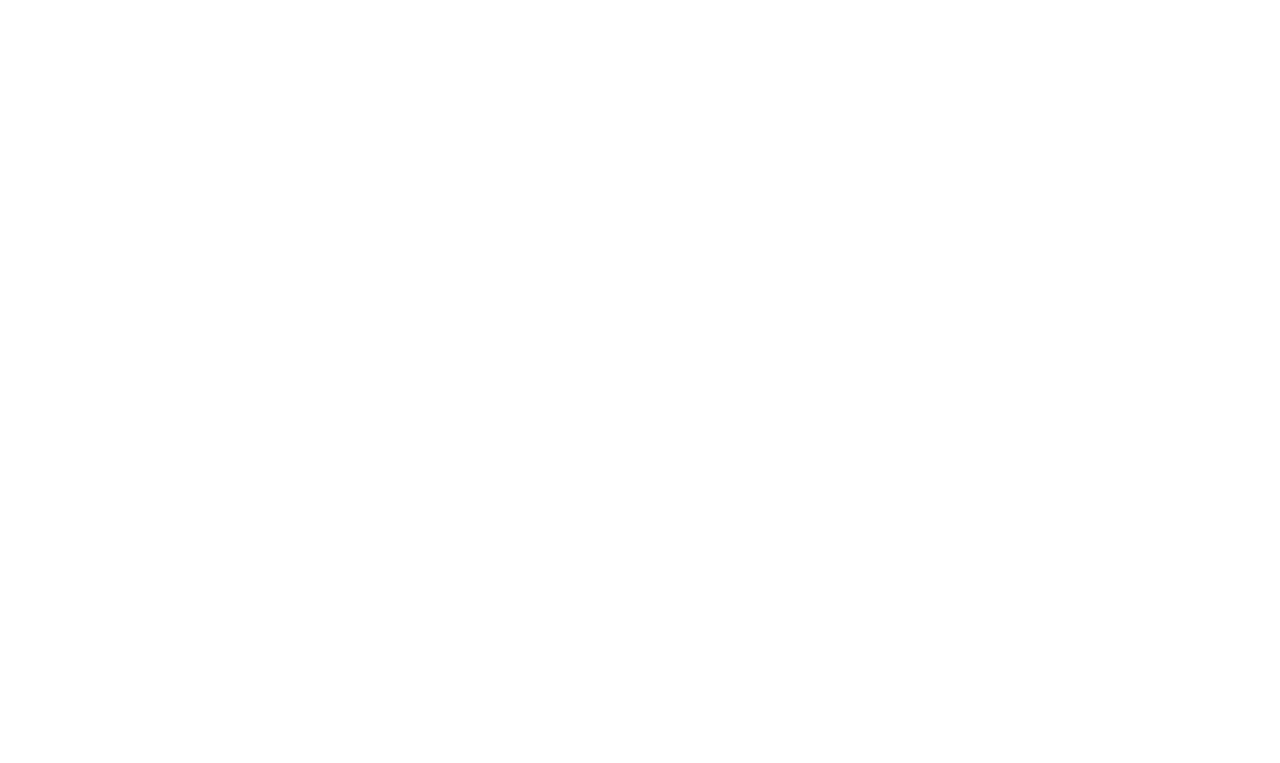
Пять рублей образца 1938 г.
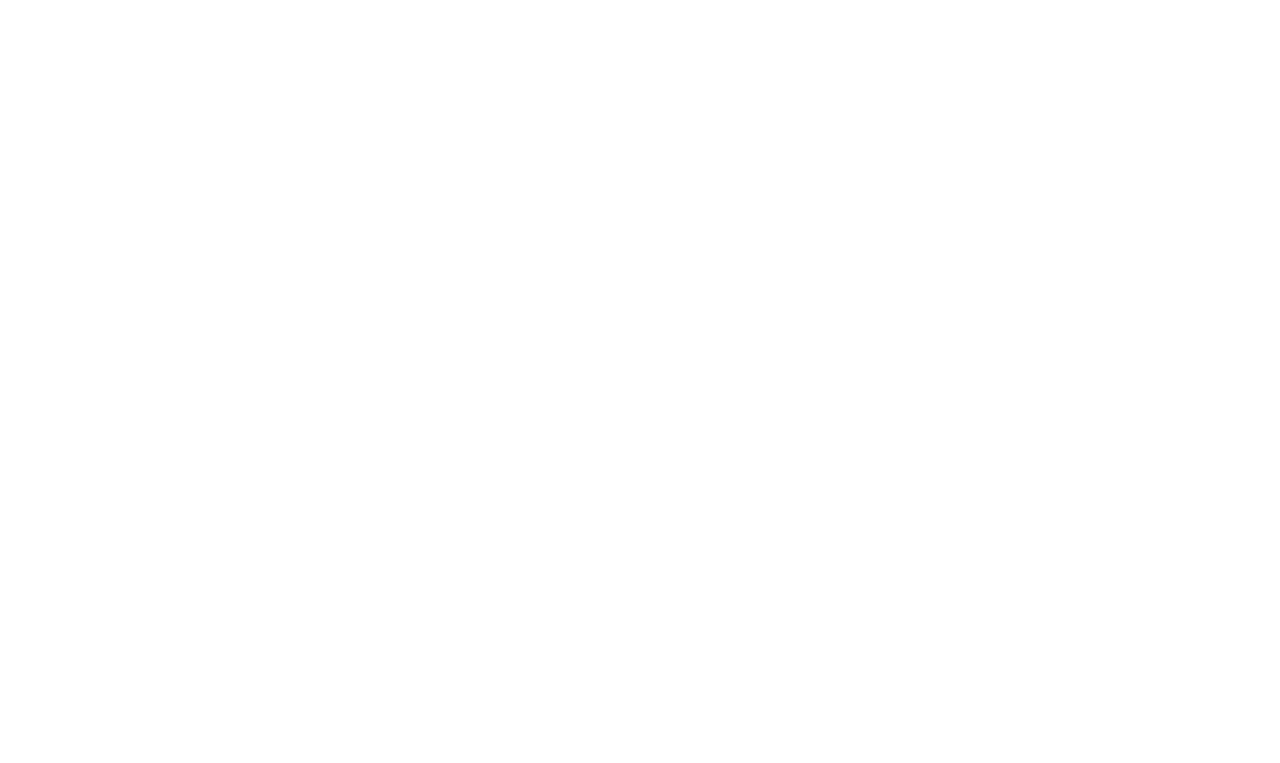
Три червонца образца 1937 г.
В ноябре 1941 года повсеместно на оккупированных восточных землях немцы ввели в денежное обращение германскую марку, имевшую хождение наравне с рублем. Расчетный паритет – 10 рублей за 1 германскую марку, установлен законом в принудительном порядке. Позднее, в декабре 1941 года, из обращения изъяли банкноты достоинством 5 и 10 червонцев. В ходу остались лишь 1, 2, и 3 червонца. Денежная политика немцев на оккупированных территориях подразумевала завуалированный грабительский подход: эмиссия ничем не обеспеченных денег с завышенным курсом позволяла скупать имущество жителей по сильно заниженным ценам, тем самым поддерживая немецкие войска за счет окружающего населения.
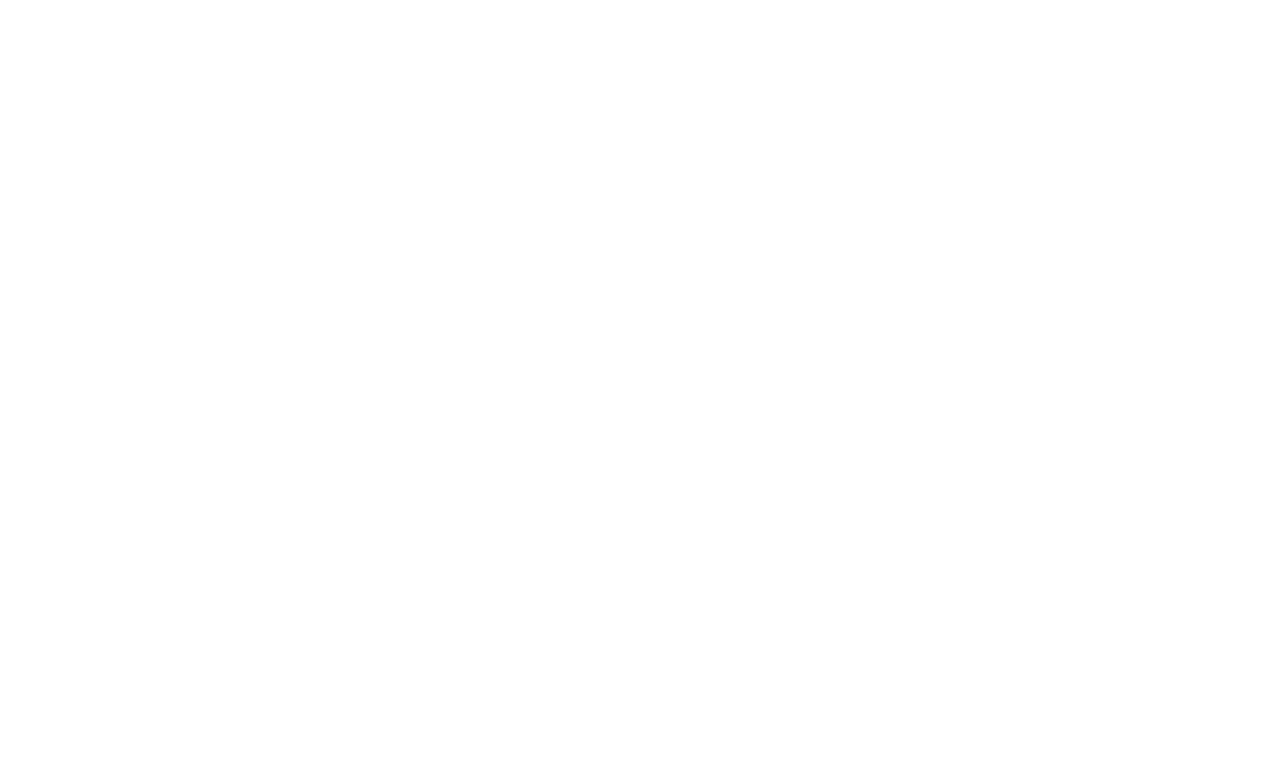
50 немецких рейхсмарок.
Повсеместные запреты стали обыкновенным делом. Так, жителям не разрешалось пользоваться велосипедами, более того их надлежало сдать в Транспортное управление на улице Ленина, 11. Этим же распоряжением генерал-майора Гофмана запрещалась верховая езда. В зимнее время наступал запрет на использование лыж. Зимой 1941 года комендатура призвала население сдать топоры и пилы для заготовки дров. Вместе с тем псковичей приглашали принять участие в заготовке дров «под охраной немецкого командования» с хорошей оплатой за проделанную работу.
В сентябре 1941 года распоряжением бургомистра ввели новые расценки на квартирную плату, за электричество, за воду. Отныне за потребленное электричество необходимо выложить 0,4 рубля за 1 kW при условии, что в квартире установлен счетчик. Если же его нет, то за потребленное электричество платится установленная такса: за наличие одной лампы мощностью 15W взимается 1,5 рубля в месяц, за лампу мощностью 100W – 10 рублей в месяц.
Размер квартплаты зависел от наличия в ней удобств. За квартиру первой категории (имеется водопровод и канализация) необходимо внести из расчета 1 рубль за кв. метр. С начала октября до конца апреля дополнительно оплачивалось отопление – 1,5 рубля за квадратный метр. Ко второй категории относились дома в предместьях и не имеющие водопровода и канализации, их владельцы вносили плату в размере 0,7 рубля за квадратный метр.
Ввиду дефицита жилья в городе населению запрещалось самовольно без пропуска покидать свои квартиры или дома и переезжать в сельскую местность на лето. Так, если квартиросъемщик более чем на семь дней покидал свое жилье, то квартира опечатывалась, а находящееся в ней имущество описывалось, после чего квартира передавалась другому жильцу.
Основным контролером оплаты счетов был дворник или управдом, который нес личную ответственность за своевременную оплату счетов жильцами. Кроме того, в Городской управе был специальная должность сборщика квартирной платы. В обязанности дворника входило довольно много функций. Дворники, в соответствии с распоряжением бургомистра от 29 сентября 1941 года, всегда работали в связке с полицейским и контролировались последними. Дворники, кроме исполнения своих прямых обязанностей по содержанию дворовой территории в порядке, обязаны были предоставлять в полицию списки людей, подлежащих трудовой мобилизации, описывать при необходимости имеющееся имущество жильцов для предоставления в соответствующие органы, вести учет жилой площади и прочее.
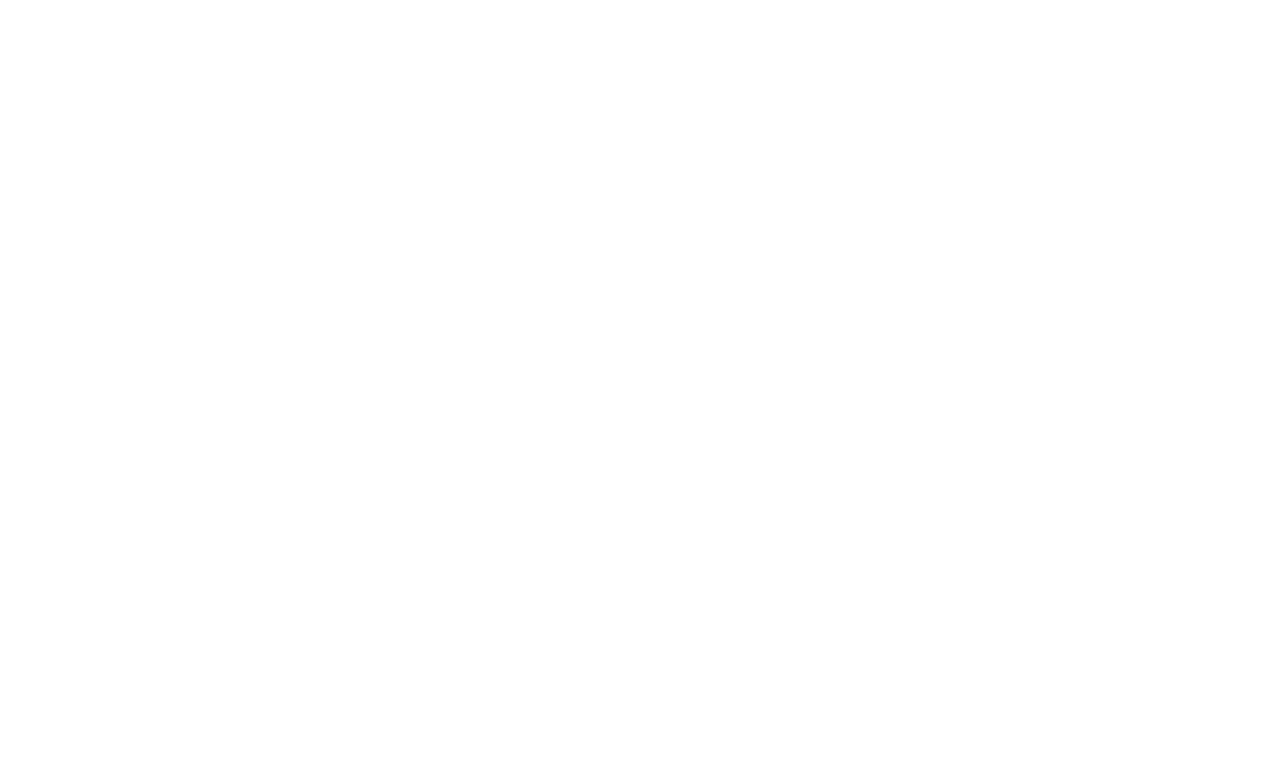
Комендант Пскова с солдатами.
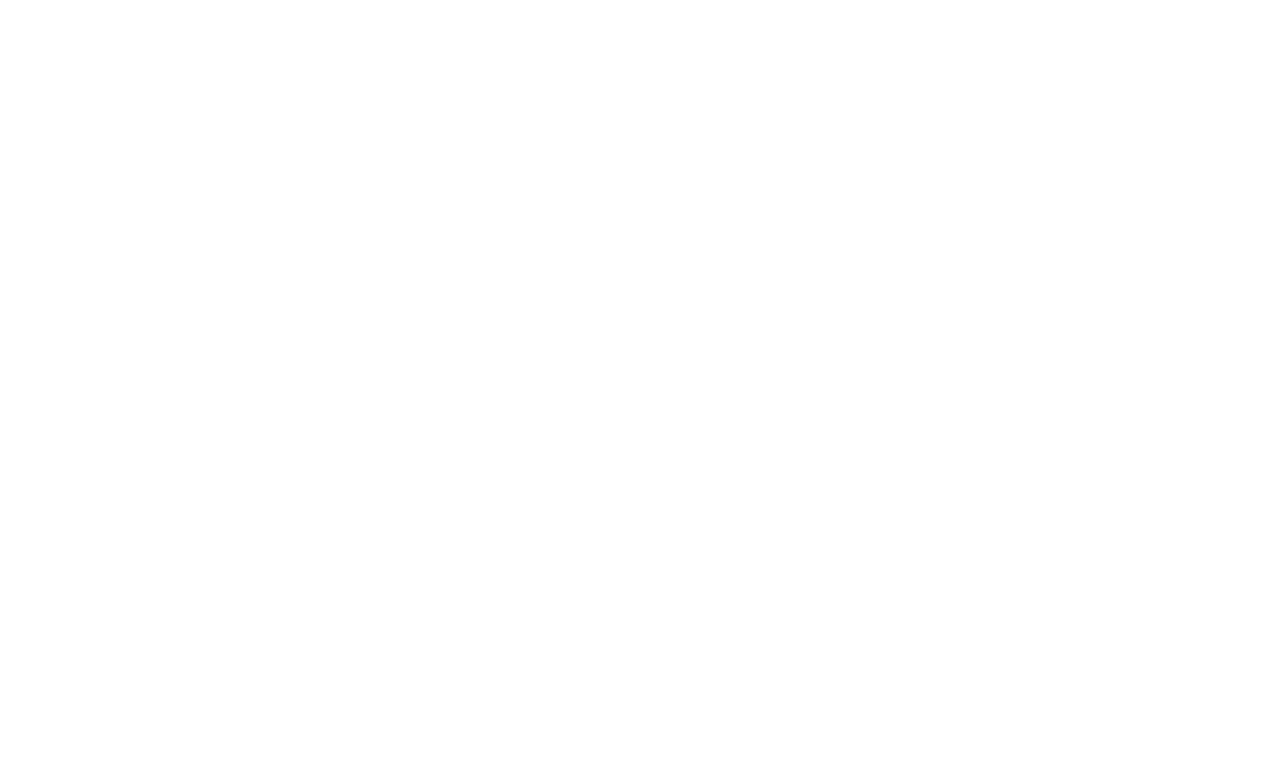
Бывший комендант Пскова генерал-майор Генрих Ромлингер на скамье подсудимых (1945 г.)
Оккупационная власть была полноправным хозяином в городе и интересы жителей ее мало волновали. Даже несмотря на своевременную оплату коммунальных и всех прочих услуг, положение квартиросъемщика и владельца было весьма шатким, о чем хорошо свидетельствуют документы из дела «Распоряжения начальника квартирного отдела немецкой комендатуры об освобождении квартир и переписка бургомистра с заведующим жилищным отделом и начальником по жилищному вопросу». Городское управление напрямую подчинялось немецкой комендатуре, откуда на имя бургомистра спускались распоряжения к немедленному исполнению. Указанное дело показывает, насколько циничным и безразличным было отношение оккупантов к местному населению.
Если немецкому руководству была необходима жилая или административная площадь в городе, то вопрос решался быстро и без обсуждений. Так, например, 18 декабря 1942 года была выселена из своей квартиры на улице К. Маркса, 85-7 Желан Анна на улицу Нарвскую, 12, где необходим был ремонт. Жилплощадь на улице К. Маркса занял немецкий офицер. 23 декабря 1942 года бургомистру поступило распоряжение до 31 декабря освободить две квартиры по адресу Hauptstrasse 42 (сегодня Октябрьский проспект) в течение 8 дней. Согласно справке в указанных квартирах проживали восемь человек. 14 января 1943 года по приказу следовало освободить еще одну квартиру, где проживали женщина с тремя маленькими детьми, женщина с дочерью, двое эстонских служащих и мужчина. И таких распоряжений на выселение – десятки…
Налоги взимались исходя из доходов индивида. Так, если житель имел доход не выше 100 рублей в месяц, он освобождался от уплаты подоходного налога. Суммы от 101 до 300 рублей обкладывались налогом в размере 6%, от 301 до 600 рублей – 8%, от 601 рублей и выше – 10%. Иногда вводились стихийные единовременные налоги, так, с 17 по 26 декабря 1941 года по распоряжению бургомистра был введен дополнительный налог в размере 10 рублей с каждого проживающего на «благоустройство города». С 1 мая 1942 года был введен еще один налог – «подушный». Его были обязаны платить все в возрасте от 18 до 60 лет. Дети, а также нетрудоспособные и инвалиды освобождались от уплаты. Размер «подушного» налога составлял 120 рублей в год. Владельцам собак тоже было необходимо оплачивать налоги за своих питомцев – «налог на собак». Так, владельцу одной собаки следовало внести в казну города 25 рублей в год, за вторую – 35, за каждую следующую 45 рублей в год.


Каждому жителю Пскова, при соблюдении определенных условий, полагалось хлебное довольствие при получении «хлебных карточек». С 1 апреля 1942 года нормы распределялись следующим образом: работающие получали 350 граммов хлеба в день, неработающим полагалось 175 граммов в день. Рабочим карточки выдавались на предприятии, где они трудились, и изымались в случае увольнения. После увольнения работнику вручалась карточка для неработающих с правом получения 175 граммов хлеба в день. Лица, самовольно бросившие работу, лишались хлебной карточки.
Использовать их можно было лишь в том магазине, к которому был приписан получатель. Хлеб не был бесплатным, после предъявления карточки необходимо было оплатить свою покупку. Если житель привлекался на тяжелые физические работы, он мог претендовать на увеличение хлебного пайка – на 150 граммов. На увеличение нормы требовалось разрешение Управления Труда.
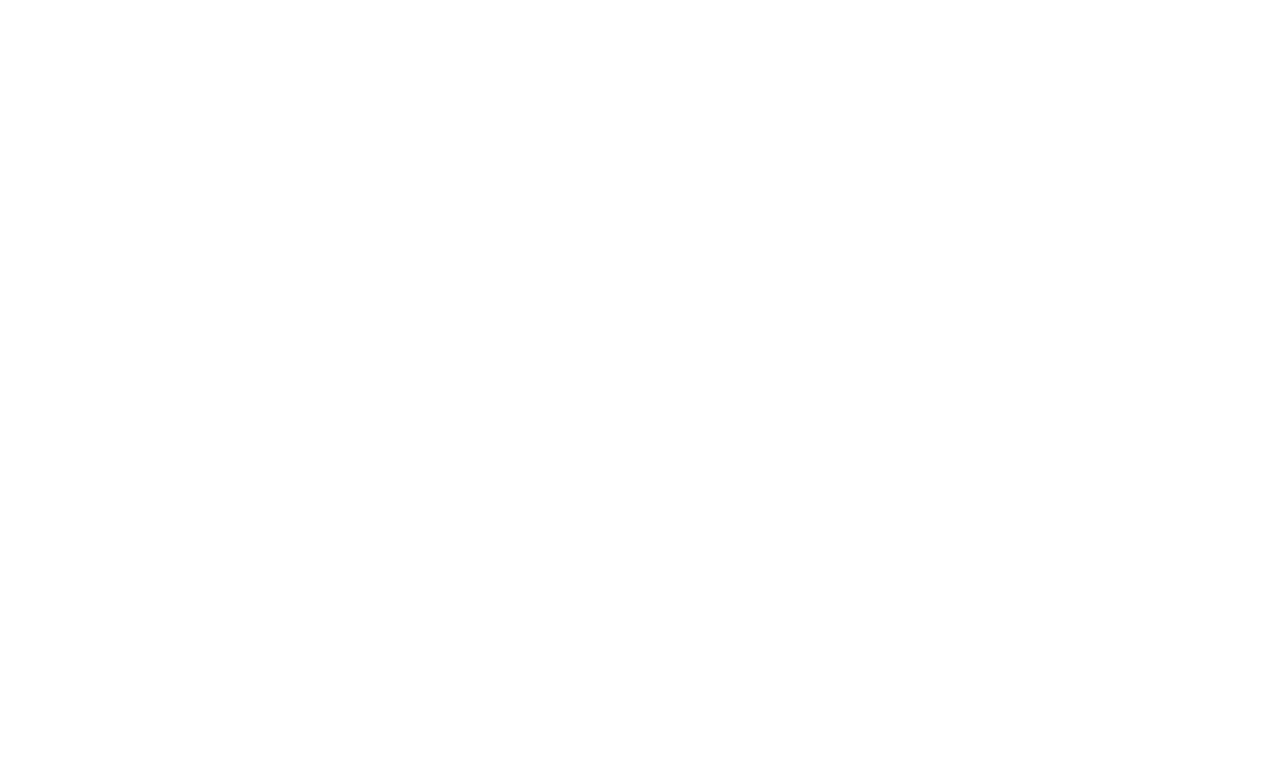
Продовольственная карточка Вохинова Геннадия Евгеньевича (1941 г.р.),
проживавшего в Пскове на ул. А. Гитлера, д. 42, кв. 11, 1942 г.
проживавшего в Пскове на ул. А. Гитлера, д. 42, кв. 11, 1942 г.
В октябре 1942 года в Пскове вышло распоряжение городских властей о «раздаче» картофеля каждому жителю, имеющему соответствующие продуктовые карточки. Норма – 200 килограммов на трудящегося и по 100 килограммов нетрудящемуся. За расход по приему, выдачу и прочее, получатель картофеля уплачивал 5 копеек за килограмм владельцу магазина или склада.
Рыночная площадь в годы оккупации
Дополнительные средства к существованию можно было заработать на рынке. Во время оккупации с разрешения хозяйственной команды города Пскова торговля товарами была разрешена только на площади между Ольгинским и Троицким мостами. Без такого разрешения полиция имела право конфисковать товар у продавца.
“
«Базар в Пскове – на площади у Кремля. Три длинных ряда двойных прилавков, подведенных под крышу, и несколько без крыши, составляют центр базара. Рядом – крестьянские возы, возле которых толпятся покупатели. Вне прилавков стоят одиночные продавцы в разнос. У них вы можете купить пирожки, котлеты, папиросы и сигареты пачками и поштучно. Стоит гул голосов. Люди деловито ходят, толкаются, пробиваются, На базаре царят неписанные законы. Большинство продуктов, как ягоды, мука, сахар, разная крупа, мак, мед продаются только стаканами. Картофель продается «мерой», а зимой и весной «горшками» на 20-25 картофелин. Только молоко продается общепринятой мерой – литрами. Чаще всего масло предлагается порцией – «на глазок»: «блином ли» с тарелки, или аккуратным прямоугольником, но без определенного веса – так просто. На базаре «важня» – городские весы. Но по мелочам псковичи не привыкли обращаться к помощи весов. Сказывается широкая русская натура. В начале лета, когда продавали большими корзинами клубнику, важня работала превосходно. За одно взвешивание брали 50 копеек», —
Торговать можно было лишь в определенные дни и время: по понедельникам, средам и пятницам с 8-ми до 14-ти часов. По воскресеньям разрешался так называемый «Маленький рынок», на котором можно было продавать только скоропортящиеся товары. Местные крестьяне не имели права торговать в этот день на рынке. В 15 часов все торговцы должны были убрать свои товары с базара. В установленные дни можно было торговать сельскохозяйственными продуктами, домашней птицей, свежей, соленой и копченой рыбой, ягодами и грибами в течение всего года, допускались к продаже кустарные изделия.
Запрещено было торговать: мясом всех сортов, дровами и лесными материалами, горючими, смазочными и льняным маслами, табаком и табачными изделиями, сахарином и водкой, галантереей, мануфактурой, металлическими изделиями и мехами и всеми товарами, служащими для снабжения германской армии. Все запрещенные в свободной торговле, но необходимые к сдаче сельскохозяйственные продукты должны быть сданы хозяйственной команде на улице Новгородской, 10. Перепродажа запрещена. Против спекулянтов, взвинчивающих цены, принимались самые строгие меры.

«Строгие меры» применялись весьма избирательно. Как на допросе показал бывший бургомистр Черепенькин: «Законы наши русские распространялись только на русских, немцы, проживавшие до этого в России, под эти законы не подпадали, и их судить мы не имели права». Административному наказанию подлежало все население, исключая лиц немецкой национальности. Рассмотрим подробнее, за какие нарушения полагались наказания простому населению. В архиве Псковской области сохранились несколько томов административных дел нарушителей общественного правопорядка.
В ноябре 1942 года рабочая Павлова Ефросинья, 1907-го года рождения, подверглась штрафу в 2000 рублей или четыре недели ареста за то, что передала своей сестре немецкие брюки-галифе для продажи. Еще более суровому наказанию подвергся торговец Панков Михаил 1891-го года рождения. Ему присудили штраф в 3000 рублей за то, что на рынке он пытался продать сахарин. В августе 1943 года безработная Федорова Феодосья 1882-го года рождения была оштрафована на 500 рублей или 25 дней ареста за попытку продать немецкие вещи на рынке в Пскове. В ноябре 1942 года домохозяйка Семенова Евдокия была оштрафована на 300 рублей за продажу соли по повышенной цене на базаре. Дважды за одну провинность был наказан инвалид Разгуляев Дмитрий 1893-го года рождения – в мае и июне 1943 года он подвергся штрафу в размере 200 и 1000 рублей. Первый раз за незаконное приобретение табачных изделий, а второй – за попытку их перепродать на псковском рынке.
Не только продажа запрещенных товаров преследовалась по новым законам. Покупка некоторых товаров также подлежала преследованию. В июне 1943 года Петров Иван 1886-го года рождения был оштрафован на 500 рублей за попытку приобрести сапоги на базаре. Или, например, Хамидулин Хусьян 1912-го года рождения в ноябре 1942 года был оштрафован на 3000 рублей или 10 недель ареста за покупку сахарина на рынке. В лишние 100 рублей обошлась незаконная покупка рыбы Тимохиной Зинаиде 1913-го года рождения. В дополнительные 300 рублей штрафа обошлась инвалиду Фоминой Екатерине 1909-го года рождения покупка немецкого одеяла.
Выше мы перечислили нарушения, касательно правил торговли, но и в обычной бытовой жизни подстерегали различные опасности получить штраф. В июне 1943 года плотник Петров Владимир 1924-го года рождения получил штраф в 150 рублей за передвижение по улице в запрещенные часы по улице без соответствующего разрешения. Штраф в 100 руб. ожидал в июне 1943 года рабочего Парийского Евгения 1925-го года рождения за то, что он нарушил постановление комендатуры о пребывании в чужих квартирах в запрещенные часы. Летом того же года Петров Захар 1876-го года рождения был оштрафован на 200 рублей за проезд в Псков без пропуска.
Одно из суровых наказаний, которое подразумевало арест виновного – незаконное пользование электричеством. По множественному наличию в архиве таких протоколов, это было распространенное явление. За незаконное включение электроприбора в розетку налагался штраф в 200 рублей или арест до 10 дней. Не менее суровым был штраф за выезд из города без разрешения. В марте 1943 года кочегар Семенов Тихон 1898-го года рождения был оштрафован на 200 рублей или 10 дней ареста за поездку в Остров без разрешения. Аналогичному штрафу в 200 рублей или 10 дней ареста подверглась домохозяйка Суслова Зинаида 1913-го года рождения. Как было установлено полицией, она послала своего несовершеннолетнего сына воровать картофель. В мае 1943 года Федоров Василий заплатил штраф в 200 рублей или 15 дней ареста за установку без разрешения в своей квартире чугунки. Штраф в 25 рублей получила Семенова Александра за то, что в квартире пилила дрова. За оскорбление полицейского заплатила штраф в 300 рублей или арест на 15 дней Чиркина Анастасия 1915-го года рождения в октябре 1943 года.
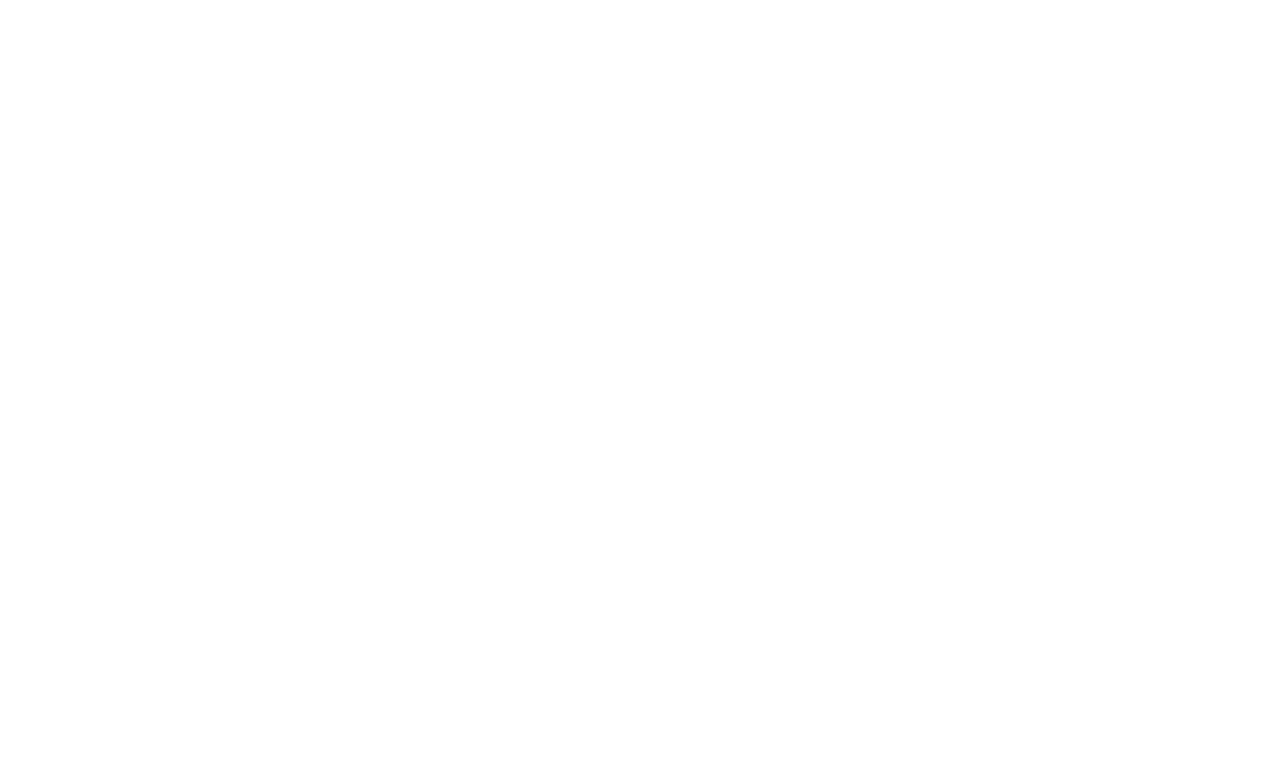
Удостоверение кочегара Рунь Адама, что он находится на службе Германских Вооруженных сил и имеет право свободного входа на железнодорожные сооружения.
Согласно распоряжению городского главы, штрафы налагались и за несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм. Нарушителю грозил штраф в 200 рублей или арест и принудительные работы на 14 дней. Штраф за нерегистрированную собаку – 100 рублей. При этом при определении вида наказания штраф или арест зависело от полицейского, заполняющего протокол о наказании. Так, если чиновник полагал, что наказуемый неспособен оплатить штраф, то в качестве наказания присуждал арест.
Довольно частым явлением для немецких порядков были показательные публичные наказания. Так, по словам очевидцев, на заводе «Пролетарий» нередко устраивались публичные порки провинившихся. Свидетель описывает случай, когда во время обеда всех рабочих собрали в столовой, там установили отдельный стол и в один день наказали прилюдно девушку за небольшую кражу: один жандарм держал ее за голову, другой за ноги, третий – порол. На том же заводе «Пролетарий» расстреляли женщину за кражу.
Впрочем, вся немецкая оккупация началась с показательных казней. Согласно свидетельствам очевидцев, 15 июля 1941 года на Советской площади были повешены два неизвестных горожанина. Как гласила надпись у виселицы «За саботаж». Через некоторое время, 17 августа 1941 года, на этой же площади у стен сгоревшего гостиного двора были расстреляны 10 мужчин. Поводом стал труп немецкого солдата, обнаруженный на улице Гоголя.
Расстрелянные заложники 17 августа 1941 г. на рыночной площади в Пскове.

Вслед за наказаниями рассмотрим, какие поощрения предлагала оккупационная власть. Согласно документам Социального департамента, работавший на предприятии человек имел право на бюллетень по болезни. Исходя из представленных данных, в среднем пособие по временной нетрудоспособности зависело от размера заработной платы и составляло от 30 до 630 рублей в месяц. Но это крайние обнаруженные цифры в изученных документах, средняя выплата насчитывала 120-160 рублей в месяц.
Кроме того, нетрудоспособным выплачивали ежемесячное пособие в размере 100-200 рублей. Чтобы претендовать на данное пособие, необходимо было подать заявление в Социальное обеспечение, после чего домой к просителю приходил инспектор, который составлял Акт обследования бытовых условий. В Акт вносились все живущие тут, их возраст, состояние здоровья, описывался быт, находящаяся мебель, получает ли проситель какую-то стороннюю помощь – от родственников или общественных организаций.
В некоторых случаях неимущим помогала организация «Самопомощь», которая выплачивала небольшое денежное воспоможение – до 50 рублей в месяц, иногда это были просто ежедневные обеды. Кстати, наличие родственников в Красной армии не являлось препятствием для получения пособия, о чем говорит Акт, например, Васильевой Анастасии 1908-го года рождения. Естественно, пособие могли и отобрать, о чем свидетельствуют приложенные уведомления к некоторым Актам осмотра. Так, например, в ноябре 1943 года пособия лишилась Васильева Татьяна 1914-го года рождения, у которой двое малолетних детей – 4 и 2 года. Причиной остановки выплат послужил арест немецкими властями Васильевой Татьяны. В другом случае заявителя перевели на обеспечение в Псковский Дом инвалида.
“
«Многочисленные больницы, сотни врачей и аптек обеспечивают уход за здоровьем населения на нашей освобожденной Родине. Как только фронт продвинулся дальше на Восток и начала восстанавливаться мирная жизнь, немецкие власти взялись за организацию больниц, разрушенных или поврежденных во время военных действий. Обстоятельства требовали снова начать работу в них и, по мере надобности, возвести новые здания. Благодаря инициативе русских районных начальников и городских голов, а также всемерной помощи германской армии, сейчас в северных русских освобожденных областях имеется достаточное число больниц, переданных в распоряжение гражданского населения. Поскольку в некоторых больницах приобретение посуды и постельного белья оказалось затруднительным, германские власти сами пришли на помощь. Сейчас производится регистрация необходимого постельного белья для того, чтобы, по мере надобности, распределить контингент, предоставленный русским больницам. Благодаря предупредительному отношению германских учреждений, больным выдаются дополнительные нормы продовольствия, главным образом, молока, масла и яиц», —
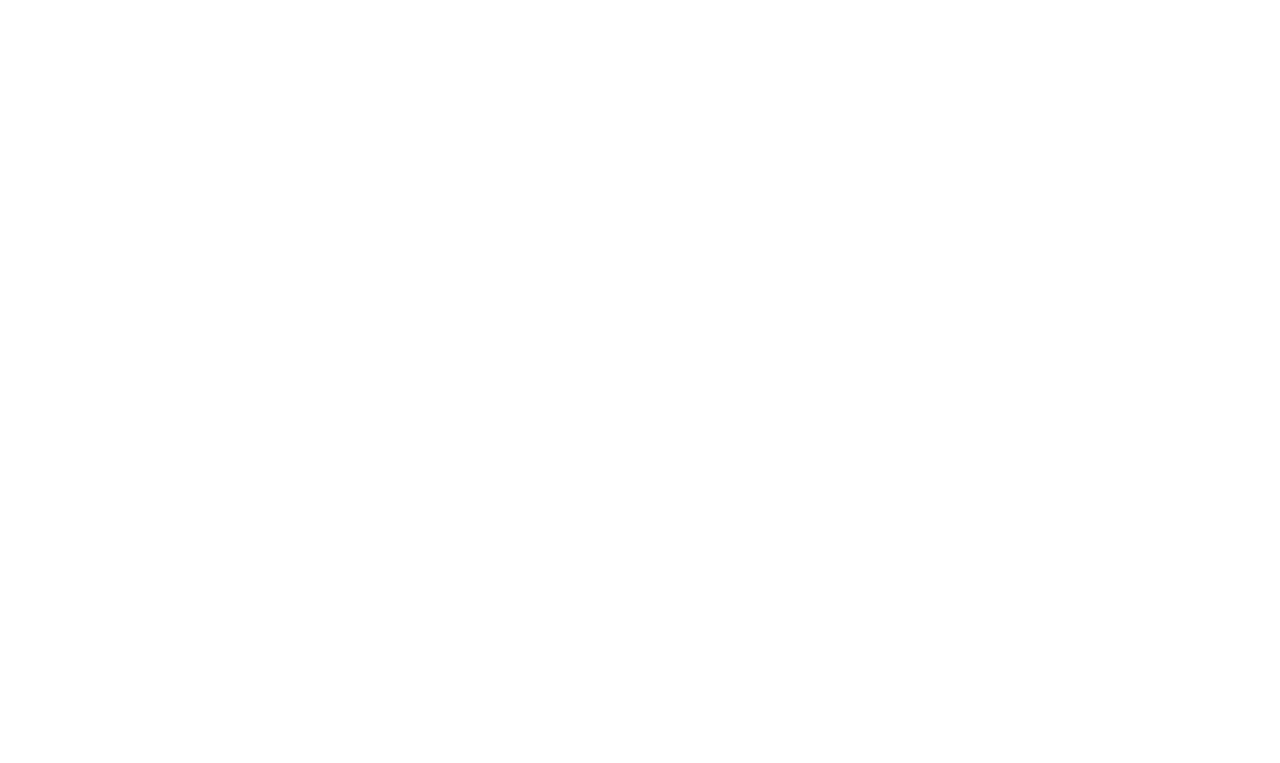
Редакция газеты «За Родину».
Согласно статистике, в городском детском приюте в августе 1943 года находились 19 детей – 16 мальчиков и три девочки, в Псковском Доме инвалида содержались 65 человек: 29 мужчин и 36 женщин. Довольно строго немецкая администрация следила за распространением эпидемий. Так, поощрялось донесение в полицию на заболевшего сыпным тифом. В данном случае информатору выплачивалось вознаграждение в размере 30 рублей. В редких случаях просителю оплачивали расходы на погребение родственника в размере 600 рублей.

И если с поборами и штрафами все ясно, то рассказ о повседневности будет неполным без представления о стоимости товаров и продуктов. Практически все товары перешли в категорию труднодоступных.
В какой-то мере сельским хозяевам было проще, поскольку за сданную продукцию они имели право приобрести разного рода продукты. Так, за сданные 100 килограммов трепаного льна крестьяне получали 565 рублей. Вместе с этим в качестве поощрения они имели право купить: 100 килограммов ржи по 1 рублю за килограмм, 8 килограммов соли по цене 1 рублю за килограмм, 5 пачек табаку по 5 рублей за пачку. За каждые сданные 10 яиц крестьянин получал разрешение на покупку 4 килограммов соли или одной пачки махорки или двух коробок спичек по установленной цене. За каждые сданные 50 литров молока сверх нормы крестьянин получал разрешение на покупку 1 бутылки водки по установленной цене.
Список некоторых цен (официально установленных) на товары и услуги в 1942-43 годах: табак по цене за пачку в 50 граммов – 2 рубля; корова – от 2500 до 4000 рублей; хворост для отопления – 1 кубометр – 12,5 рублей; на рынке полушубок с воротником синего цвета за 2300 рублей; гончарная мастерская предлагала продукцию своего производства: чашки обеденные от 5 до 20 рублей, крынки для молока от 12 до 20 рублей, горшки, для сметаны от 12 до 20 рублей, горшки цветники от 10 до 25 рублей; резиновые сапоги – 70-120 рублей; галоши – 20-40 рублей; в 1943 году цена подписки на один месяц на газету «За Родину» 12 рублей; стоимость обучения в сельскохозяйственной школе в Черняковичах – 200 рублей в год.
Согласно утвержденным комендантом Пскова расценкам, на всех производственных предприятиях рабочим предлагалось ежедневное питание по фиксированной цене – 3 рубля в день, или только обед – 1,5 рублей, которые вычитались из заработной платы.
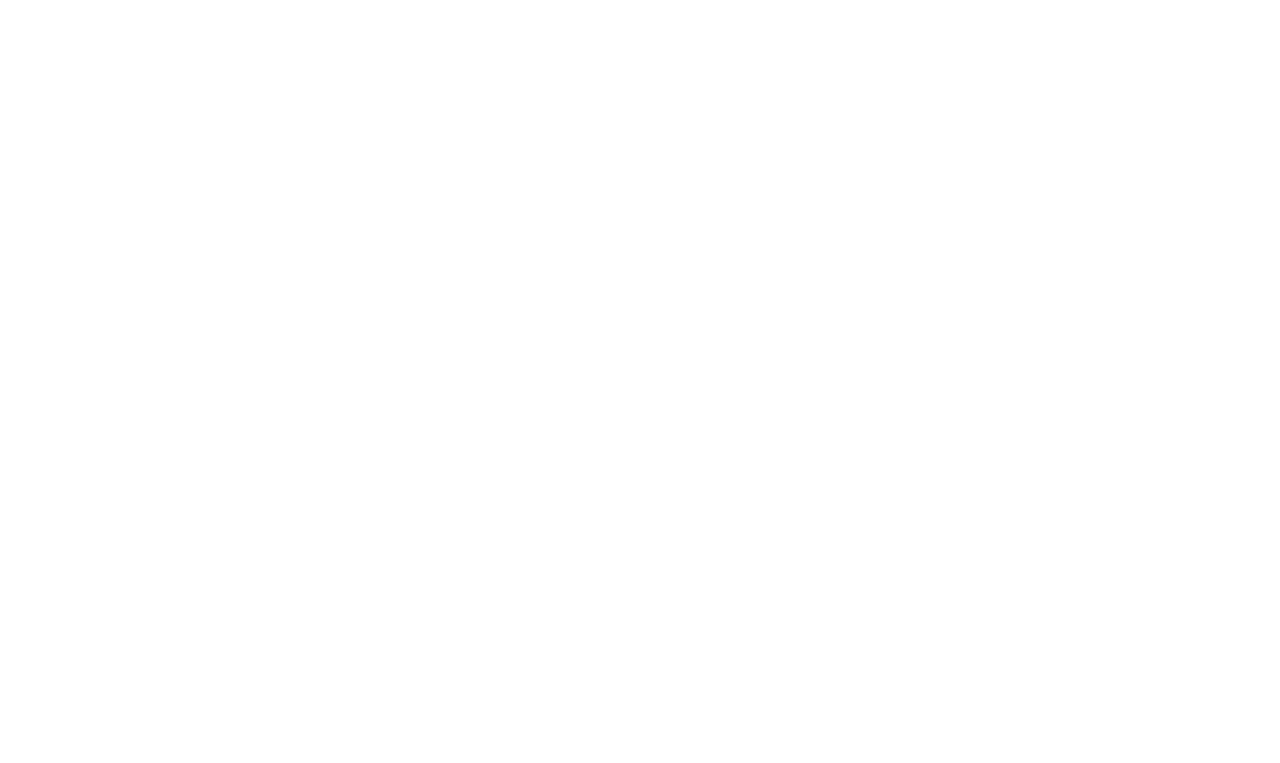
Талон на право приобретения железных изделий на сумму 1 RM.
Все приведенные выше цифры сами по себе интересны, но при этом не могут сказать о другом – о возможности человека приобрести эти товары и продукты. О способности жителя обеспечить свою жизнь необходимо привести размеры заработной платы различных категорий рабочих и служащих. Для этого вновь необходимо обратиться к архивным документам. Наиболее информативным здесь будет дело под названием «Ведомости на выдачу зарплаты сотрудникам Управы за январь-август 1943 года».
Наиболее оплачиваемой персоной на городской службе был бургомистр Черепенькин, согласно ведомостям, он за свою работу получал 1800 рублей в месяц, с удержанием 10% налогов – то есть 1500 руб. в месяц. С марта 1943 года бургомистр поднял себе зарплату на 500 до 2000 рублей и налогами уже эта сумма не облагалась.
На других должностях (в месяц до вычета 10% налога) – начальник полицейского участка – 1200 рублей; старший переводчик – 750 рублей; секретарь бургомистра – 700 рублей; переводчик – 600 рублей; завхоз – 500 рублей; учитель – 500 рублей; механик – 450 рублей; агроном – 450 рублей; заведующая детским садом – 400 рублей; сборщик квартирной платы – 400 рублей; делопроизводитель – 350 рублей; воспитатель – 300 рублей; машинистка – 300 рублей; буфетчик – 250 рублей; истопник – 200 рублей; уборщица – 200 рублей; посыльный – 120 рублей.
В феврале 1943 года некоторым сотрудникам Горуправы была выплачена премия в размере от 50 до 100 рублей «за оказание помощи пострадавшим от бомбежки и пожара». Всего на должностях в Городской управе числилось 296 человек с общим заработным фондом 92182 рублей (в апреле 1943 года).
Лучше с заработным фондом были дела в Псковской Православной миссии. Так, например, начальник хозчасти в октябре 1943 года получал 3000 рублей; бухгалтер – 1000 рублей. В Дмитриевской церкви, где находился детский приют, заработная плата в феврале 1943 года была следующей: заведующая приютом – 780 рублей; староста – 560 рублей; псаломщик – 400 рублей; швея – 300 рублей; певчая – 250 рублей.
Необходимо сказать, что перечисленные выше зарплаты и премии практически в несколько раз были ниже, чем, допустим в Прибалтике, если оценивать размеры оплаты труда в Риге, то они окажутся не в пример выше местных. Так, скажем, на территории Латвии бухгалтер получал 100-125 RM; сторож – 60-70 RM; учитель – 95 RM; помощник-письмоносец в конторе – 70 RM; шофер – 90 RM, что по назначенному курсу в рублях необходимо было умножить на 10…
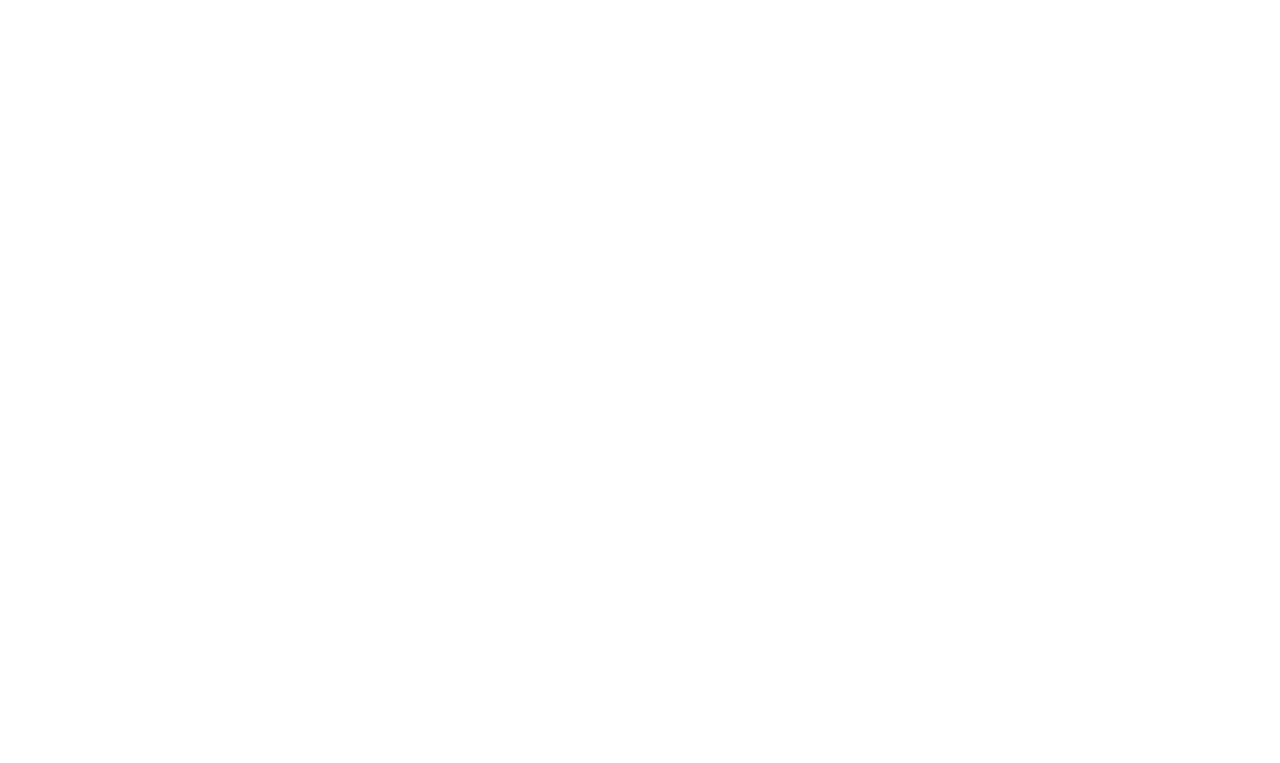
Примерно таким был мир среднего псковича, оказавшегося в немецкой оккупации. Изложенная выше информация, конечно же, не полностью, но несколько точно обрисовала картину прошлого и подчеркнула, что в годы нацизма мир четко делился на две оппозиции: мы и они. При этом категория «Они» в течение всего оккупационного периода, по планам поработителей, должна была как можно скорее исчезнуть. Главным принципом оккупантов был лозунг «Россия без русских», что и воплощалось в жизнь в течение трех лет немецкой оккупации.
Ярче всего этот факт иллюстрирует небольшая справка из Акта Чрезвычайной комиссии, проводившей расследования злодеяний немецких оккупантов и их пособников: «На начало немецкой оккупации в Пскове насчитывалось 30 тысяч жителей, а спустя несколько лет, на 23 июля 1944 года, в Пскове смогли насчитать 117 человек, из которых 105 находились на больничных койках». Позже люди, конечно, вернулись в город, но это уже другая история. И сегодня, как никогда, нам необходимо помнить, какой ценой досталась Победа над нацизмом, и чего она стоила нашим отцам, дедам и прадедам.
Текст: Влад БОГОВ
Верстка: Кирилл ГАВРИЛЕНКО
Редактор: Максим АНДРЕЕВ
Верстка: Кирилл ГАВРИЛЕНКО
Редактор: Максим АНДРЕЕВ
При подготовке публикации использованы материалы из фондов Государственного архива Псковской области, газеты «За Родину» (1942-1943 годы), данные из книги Ковалева Б. Н. «Нацистская оккупация и коллаборационизм в России, 1941-1944».
Фото из личного архива автора.
